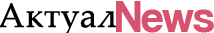«Ни один американский город не выдержал бы этого»

К 75-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда: из малоизвестных воспоминанийВладимир Малышев 27.01.2019
Невиданный, беспримерный в мировой истории героизм проявили защитники Ленинграда. Почти 900 дней защищали они свой город, но, несмотря на жестокий голод, непрерывные обстрелы и бомбежки, не сдали его врагу. Более миллиона жителей Ленинграда погибло, точно невозможно даже сосчитать… О безмерных страданиях и мужестве ленинградцев написаны тысячи книг, сняты десятки и даже сотни фильмов, издано множество воспоминаний. Но все равно появляются все новые свидетельства героической обороны Ленинграда, истории, которые потрясают.
Крохотным тиражом была издана несколько лет назад книга воспоминаний «Осадная запись» профессора Александра Болдырева, многолетнего декана Восточного факультета Ленинградского университета. Во время блокады он ежедневно вел дневник – потрясающий документ, полный раздирающих душу тонких психологических наблюдений и деталей. «Вот возникает в моем воображении, – начинает он свои записи, – видение неслыханной прелести: кабинет, светло и тепло. Я, живой, сытый, чистый, спокойный, сижу и пишу. Все ужасы в прошлом. Осадная Запись – есть запись о прошлом и в прошлом. Она окончена и я готовлю ее для других…» Приведу лишь несколько отрывков из этого уникального блокадного дневника ленинградского ученого:
«15 декабря. Крепчайший мороз. Трамваев никаких. Тревог нет. Хлебной прибавки, конечно, нет. Самочувствие лучше в общем, но ниже на предательский кусочек, чем раньше. Картина застывшего города с бесконечными черными потоками и ручейками людей по мостовым, улицам, панелям – потрясающа. Лошадей и машин почти нет…
4 января. …Сегодня похоронили Сашу (сын Болдырева – [i]В.М). Завершилось шествие на Голгофу. Пишу вечером во мраке, измученный… Похороны отняли остатки сил. Сашенька едва не потянул меня за собой, в свою мелкую и короткую могилку…
13 января. Бедствия и смерть обволокли все улицы и кварталы осажденного города. Теперь почти нигде нет воды, ошалело бегают жители с ведрами. У нас вода есть. Все эти дни стоят морозы 25-30 градусов. На следующий день достали 1 кг муки, но теперь, конечно, продали полкилогр. хилой конколбасы (225 р. за кило). Какой пир был в вечер получения продуктов – блины на сале! Какая радость, какое ни с чем не сравнимое чувство спасения. А каша – вареная мука с жиром…
…Слышал (в трамвае), что в Москве какой-то молодой человек получил три года за рассказ о том, что в Ленинграде съели всех кошек. А что было бы, если бы он рассказал о трупах с вырезанными мягкими частями, валявшихся десятками у моргов? (Это не довезенные до морга). Несчастных этих мертвоедов расстреливали безжалостно: целыми семьями. …
Опять наплывают обрывки кошмарных видений: одна за другой несутся по обледенелой дороге крупповские пятитонки (голубые, они и сейчас ходят) со страшным своим грузом. У борта одной машины женщина откинулась, голова запрокинута, руки раскинуты, словно в приступе отчаянного, неудержимого хохота и длинные черные волосы вакхически полощутся по ветру вслед за мчащимся грузовиком. Когда на кладбище машины буксуют в снегу, грузчики быстро подсовывают под колесо ближайшего мертвеца…
16 января. Все стоят солнечные, чуть туманные дни, а ночи залиты лунным светом.
Город наш, город! С тевтонским упорством не перестают его громить немцы. Сегодня с половины дня яростно била наша артиллерия, но скоро в ее грохот влились тяжкие громы взрывов. Обстрел был жестокий, он свирепствовал более четырех часов подряд, до темноты. С темнотой (я заметил теперь точно) немцы умолкают. Видно, огонь выстрелов демаскирует их дальнобойные пушки.
Снаряды поражали весь наш район, Центр, Петроградскую, Выборгскую. Это то, что успел я узнать. Идя с лекции на Васильевском острове (где было тихо) домой пешком, ибо трамваи повсюду стояли, я узрел одно попадание на многострадальном углу «Подписных изданий» и два в узком проходе у нашего Райсовета. Влетело и в Витебский вокзал и т.д. Так как шел уже третий час обстрела, милиция ослабила свою непропускательную бдительность, и по улицам текли эти характернейшие быстрые, быстрые молчаливые ручейки пешеходов. Во всех подворотнях, в парадных, под арками, за выступами жмутся кучки осторожных и робких, или просто глазеющих, выглядывая и тоскливо топчась. Вдруг страшный треск близкого разрыва. Во мгновение ока улица словно выметена начисто. Лишь несколько человек продолжают свой бег по панелям. Это разъяренные или российско-беспечные. Но через минуту опять текут ручейки. Жизнь, прикрытая смертью…
24 января 1944 года. В начале первого раздался очень громкий разрыв, какой-то особенно звонкий, высокий, чистый. Потом еще и еще, с промежутками 5-10 минут. Только через полчаса взревело радио: обстрел! Без продолжительных выбухов, значит, издалека. Настоящие дальнобойные. Кончилось это только в пятом часу утра…
Я проснулся, взглянул на часы и немедленно заснул дальше. Уместно отметить, что при ночных обстрелах спится хуже, чем при ночных налетах. События грохочут: сегодня приказ о взятии Красного Села и Павловска. Продолжается оттепель. Фронтовики в валенках по колено в жидком снегу.
Говорят, прорыв осуществляли новые части. В них молодцы лет по 20, атлеты, лыжники, все только с автоматами. Пленных не берут, с неистовой яростью дробят прикладами, режут, душат. Хороший тон у них – чтобы белый маскхалат был побольше залит пятнами вражеской крови…
А 27-го января 1944 года в день окончательно снятия блокады Болдырев записал: «…Сейчас, в 7 ч. 45 м. вечера, радио передало приказ генерала армии Говорова: город освобожден, осада снята. И ровно в 8 ч. глухо взревели 24 залпа из 324 орудий. Разноцветные ракеты рассыпались в небе, прогоняя ночь. Город! Ты видел отблески разрывов вражеских бомб, ты багровел в кровавых зорях огромных пожаров, твои ночи превращали в день немецкие авиалюстры… два с половиной года, два с половиной года… Сегодня тебя освещают знаки победы и освобождения!»
Почему мы победили?
Но почему же мы все-таки победили? Почему несмотря невероятные мучения, презирая смерть, ленинградцы отстояли свой город, хотя против них стояла сильнейшая в то время в мире гитлеровская военная машина, а по сути, – вооруженная до зубов надменная орда всей Европы? Ведь под Ленинградом в рядах вермахта воевали не только немцы, но и французы, голландцы, бельгийцы, испанская «Голубая дивизия», добровольцы из Прибалтики и даже итальянцы.
Ответ на этой вопрос дал в своей книге «Воспоминания о войне» Николай Никулин, солдатом, сразу после школьной скамьи, воевавший под Ленинградом и пешком дошедший потом до Берлина, а после войны ставший доктором искусствоведения, всю жизнь проработавшим в Эрмитаже. В его книге есть такой эпизод, который многое объясняет:
«Однажды в зимние дни конца 1943 года, когда холод сковал тундру и скалы Кольского полуострова, русские разведчики притащили из вражеского тыла здоровенного рыжего верзилу – майора. Фамилия его начиналась с приставки «фон». На допросах он молчал, презрительно глядя на своих противников с высоты своего двухметрового роста…
Его допрашивали много раз, лупили, но безуспешно. Наконец, кто-то из переводчиков, устав, решил обратиться к Дьяконову (тоже переводчику, мобилизованному ученому из Ленинградского университета – Ред.). Игорь Михайлович предложил немцу закурить и, помолчав, спросил его: «Кем Вы были до войны?»
Тот удивился: немецкий этого русского был безупречен… Он процедил сквозь зубы, совсем не уверенный, что этот варвар поймет; «Филологом». – «Да, чем же вы конкретно занимались?» – «Языком времен готов».
Дьяконов был взволнован. Давно-давно, в детстве, ему с братом попалась рукопись стихотворения готских времен из библиотеки отца. Это стихотворение не было опубликовано, о нем знали только узкие специалисты, человек восемь-семь на всем земном шаре. С трудом вспоминая, Дьяконов стал декламировать готские стихи…
И вдруг верзила-немец словно сломался, согнулся, опустил голову, и крупные слезы покатились из его глаз. Он обнял Дьяконова, несколько минут приходя в себя, переживая крушение своих представлений о русских, о мире, и потом заговорил, заговорил, заговорил…
Переводчики пристали к Дьяконову с расспросами, как он сумел добиться такого успеха? Но понять это им было не дано, так же, как многие не понимают, почему вообще русские победили немцев в этой страшной войне. Как ни странно лучше всех это понял Сталин. Еще в 1941 году, убедившись в том, что в армии развал, а от войск, стоявших на границе, осталось всего восемь процентов и стране грозит катастрофа, он обратился к тем, кого топтал, над кем измывался долгое время – к народу: «Братья и сестры…»
Позже он ослабил пресс, придавивший Церковь, ввел погоны в армии, тем самым возродив дореволюционные традиции, упразднил институт комиссаров, распустил Коминтерн, реабилитировал многих арестованных ранее военачальников. Великие полководцы прошлого – Суворов, Кутузов, еще недавно обливаемые грязью самим Сталиным, вернулись на русские знамена…
И народ сплотился, тем более, что немцы своими безобразиями, убийствами, насилием над мирным населением уничтожили всякие иллюзии, связанные с ними в начале войны: многие крестьяне, загнанные в колхозы, жители ГУЛАГа, да и просто население городов и деревень, ждали их, как освободителей. Теперь эти иллюзии рухнули. Немцы увидели перед собой единый, вставший против них народ…»
Этот русский народ и победил ворвавшуюся в нашу страну орду поработителей, эти люди и отстояли Ленинград. Дьяконов и миллионы других, подобных ему.
Драма «блокадной музы»
Всем известно имя поэтессы Ольги Берггольц, которая всю блокаду выступала по ленинградскому радио, читая свои стихи, вдохновлявшие и поддерживающие ленинградцев. Но тогда мало кто знал, что еще перед войной она уже пережила страшные испытания, ее первый муж – поэт Борис Корнилов был арестован и расстрелян. Ее, беременную, тоже арестовали по ложному обвинению. В тюрьме после побоев и пыток она родила мертвого ребенка. Но несмотря на это держалась стойко. Была освобождена и реабилитирована.
В блокаду она тоже вела дневники, но после войны их спрятала, опасаясь обнародовать страшную правду, которую она писала.
«Сегодня Коля закопает эти мои дневники. Всё-таки в них много правды… Если выживу — пригодятся, чтобы написать всю правду», – записала Ольга Берггольц. Ее дневники нашли и не так давно они были опубликованы.
Вот запись от 2 сентября 1941 года: «Сегодня моего папу вызвали в Управление НКВД в 12 ч. дня и предложили в шесть часов вечера выехать из Ленинграда. Папа — военный хирург, верой и правдой отслужил Сов. власти 24 года, был в Кр. Армии всю гражданскую, спас тысячи людей, русский до мозга костей человек, по-настоящему любящий Россию, несмотря на свою безобидную стариковскую воркотню. Ничего решительно за ним нет и не может быть. Видимо, НКВД просто не понравилась его фамилия — это без всякой иронии. На старости лет человеку, честнейшим образом лечившему народ, нужному для обороны человеку, наплевали в морду и выгоняют из города, где он родился, неизвестно куда. Собственно говоря, отправляют на смерть. «Покинуть Ленинград!» Да как же его покинешь, когда он кругом обложен, когда перерезаны все пути! Я еще раз состарилась за этот день…»
24 сентября: «Зашла к Ахматовой, она живет у дворника (убитого артснарядом на ул. Желябова) в подвале, в темном-темном уголке прихожей, вонючем таком, совершенно достоевщицком, на досках, находящих друг на друга, – матрасишко, на краю – закутанная в платки, с ввалившимися глазами – Анна Ахматова, муза Плача, гордость русской поэзии – неповторимый, большой сияющий Поэт».
Запись от 2 июля 1942 года: «Тихо падают осколки… И всё падают, и всё умирают люди. На улицах наших нет, конечно, такого средневекового падежа, как зимой, но почти каждый день видишь все же лежащего где-нибудь у стеночки обессилевшего или умирающего человека. Вот как вчера на Невском, на ступеньках у Госбанка лежала в луже собственной мочи женщина, а потом ее волочили под руки двое милиционеров, а ноги ее, согнутые в коленях, мокрые и вонючие, тащились за ней по асфальту…»
23 марта 1942 года. «Теперь запрещено слово «дистрофия» — смерть происходит от других причин, но не от голода! О, подлецы, подлецы! Из города вывозят в принудительном порядке людей, люди в дороге мрут… Смерть бушует в городе. Он уже начинает пахнуть как труп. Начнется весна – боже, там ведь чума будет. Даже экскаваторы не справляются с рытьем могил. Трупы лежат штабелями, в конце Мойки целые переулки и улицы из штабелей трупов. Между этими штабелями ездят грузовики с трупами же, ездят прямо по свалившимся сверху мертвецам, и кости их хрустят под колесами грузовиков».
Но вот и пришли, наконец, долгожданные дни освобождения. Вот запись 24 января 1944 года: «У нас всё клубилось в Радиокомитете, мы все рыдали и целовались, целовались и рыдали — правда!» В этот же день в продажу поступила книга Берггольц «Ленинградская поэма». И ее ленинградцы «…покупали за хлеб, от 200 до 300 грамм за книгу. Выше этой цены для меня нет и не будет», – признается она в своих записях.
Чудеса в блокаду
Но, несмотря на все ужасы, были в блокадном городе настоящие чудеса. В «Блокадной книге» А. Адамовича и Д. Гранина приводится удивительный документ – постановление городских властей и Военного совета Ленинградского фронта об организации школьных елок с 1-го по 10-е января 1942 года. В нем говорилось: «Устраивать новогодние елки в помещениях, обеспеченных бомбоубежищами». А Ленглавресторану было поручено организовать обслуживание участников праздников «новогодним обедом без вырезки талонов из продовольственных карточек и елочными подарками».
Произошло в эти дни и совершенно тогда невероятное – шоферы 390-го батальона доставили в Ленинград мандарины из Грузии. Их привезли под бомбами и снарядами и раздали детям во время новогодних елок. Эти фантастические в тех условиях мандарины запомнили сотни людей. Многие другие детали Нового года самой страшной блокадной зимы 1941-42 гг., сохранились в воспоминаниях участников тех событий.
З.А. Родин вспоминает: «Как-то вечером раздался настойчивый стук в дверь и послышался такой знакомый голос, от которого я отвык за блокадные месяцы. Это была моя учительница Любовь Яковлевна. Она принесла пригласительный билет на праздник новогодней елки. Это праздник устраивался в тридцатой школе – на углу проспекта Маклина и нашей улицы Печатников…
И вот наступил этот день. Поверх свитера и рейтуз я надел свое выходное – матроску. Эта синяя блузочка с отложным воротником в белых кантиках была связана в моей памяти с довоенными праздниками. Мама молча завязала на мне, уже одетом в пальто и шапку, толстый платок, чтобы не замерз. Навсегда запомнил этот новогодний утренник. Елка стояла в углу спортзала, увешанная стеклянными и бумажными игрушками. Только ни свечек, ни лампочек на ней не было: электричество давно отключили, а вместо свечек везде освещалось коптилками. Незнакомая учительница по музыке играла на рояле, а Любовь Яковлевна и другие преподаватели пытались сбить нас в хоровод. Но это им никак не удавалось. Не было ни сил, ни охоты двигаться. К тому же наше внимание было приковано к столам, составленным в ряд вдоль одной из стен зала. А на столах – глубокие тарелки и возле каждой – ложка и вилка. Я сразу догадался, что будут кормить…
И вот, наконец, долгожданная команда – садиться. Распахнулись двери – и две тетеньки в белых халатах и колпаках на голове вкатили тележку. Тот блокадный обед из трех блюд на празднике новогодней елки врезался в память навсегда. На первое – суп с вермишелью с удивительно вкусной клейкой гущей. На второе – котлета и пюре из сушеной картошки, в котором попадались полутвердые, не разваренные кусочки. На третье – компот из сухофруктов с кругляшками яблок на донышке стакана. И еще ломтик черного хлеба. О, это был замечательный праздник!» Рассказывает М.И. Шаботковская: «Во время блокады я, моя мама Прасковья Иосифовна и сестра Лариса находились в Ленинграде до 23 июля 1943 года. 8 июля у мамы украли все карточки, и мы уехали в Ярославскую область.
На Рождество 1943 года мы все спали на одной кровати. У нас ничего не было, все под одним одеялом. И вот мы маму стали спрашивать об этом Празднике, мама нам рассказала и прочла молитву. Нам молитва очень понравилась, и мы почти целую ночь пели эту молитву, заучив ее наизусть.
А перед этим три месяца от нашего отца (находившегося на фронте в Сталинграде) не было совершенно никаких известий, и мы думали, что он погиб. И вот я не знаю, я считаю, что свершилось чудо: на следующий день мы получили от отца письмо. Отец был жив».
Американцы этого бы не выдержали
После войны беспримерное мужество ленинградцев признавали даже наши «заклятые партнеры», Запад был еще союзником СССР и не был, как сейчас, охвачен отвратительным вирусом русофобии. В августе 1945 года в СССР с визитом побывал главнокомандующий вооруженными силами союзников, а потом и президент США Дуайт Эйзенхауэр.
Сначала он прибыл в Москву, прилетел из Берлина вместе с маршалом Георгием Жуковым на американском самолете, как его «персональный гость». Эйзенхауэра в качестве адъютанта сопровождал его сын, офицер американской армии. Американцев приняли в Москве с подчеркнутыми радушием, удостоили чрезвычайной чести: во время парада Эйзенхауэр стоял на Мавзолее вместе со Сталиным. Демонстрируя гостеприимство, советская сторона предлагала им посетить «все, что угодно». Эйзенхауэр пожелал увидеть Ленинград.
В своих воспоминаниях он так это описывает: «Во время войны я много слышал о мужественной обороне Ленинграда в 1941 и 1942 годах. Я высказал свое пожелание совершить короткий визит в этот город. Во время блокады Ленинграда умерли от голода сотни тысяч гражданского населения. Много было убито и ранено. Исключительные страдания населения и продолжительность времени, в течение которого город переносил бедствия и лишения, вызванные боями в условиях осады, превратили эту операцию в одну из самых памятных в истории. Безусловно, в наше время это беспримерный случай».
В Ленинград Эйзенхауэр и другие гости прибыли 14 августа на американском самолете С-54 «Sunflower», который приземлился на Комендантском аэродроме. Об этом вспоминает Юрий Басистов, в то время – офицер штаба Ленинградского военного округа. «Накануне их прилета, – пишет он в своей книге «На крутых перевалах ХХ века», – мне было передано приказание явиться к командующему войсками округа генералу Говорову. Гадая о причине вызова, я прибыл в кабинет командующего на Дворцовой площади.
В присущей ему спокойной, несколько замедленной манере речи Говоров сказал, что на следующий день в Ленинград прилетает маршал Г.К. Жуков и верховный главнокомандующий союзными войсками в Европе генерал армии Д. Эйзенхауэр. «Мне доложили, – добавил Говоров, – что вы знаете английский язык, и, учитывая это, на время пребывания высоких гостей в Ленинграде вы будете исполнять обязанности адъютанта и переводчика».
Днем в правительственной резиденции на Каменном острове состоялся прием. По словам Басистова, «за 15 минут до приема маршал Говоров приказал мне показать Эйзенхауэру его апартаменты на 2-м этаже, а к 14.00 пригласить его к обеду. Поднявшись наверх, Эйзенхауэр закурил, предложил сигарету и мне, после чего спросил, был ли я во время войны на Ленинградском фронте. Получив утвердительный ответ, он попросил рассказать о жизни города в блокаде. Рассчитывая оставшиеся минуты, я постарался обрисовать тяжелый блокадный быт жителей города. Мой рассказ был прерван приходом лейтенанта Джона Эйзенхауэра – сына генерала.
«Послушай, Джон, что рассказывает капитан, – сказал Эйзенхауэр и добавил: – я думаю, что ни один американский город не выдержал бы этого».
Во время обеда в Ленинграде, когда произносились тосты, Жуков попросил сына Эйзенхауэра предложить свой тост. Он встал и сказал, что, как молодой лейтенант, не привык находиться в кругу таких выдающихся военачальников и руководителей, а затем произнес: «Я нахожусь в России уже несколько дней, и услышал много тостов. В этих тостах говорилось о мужестве и заслугах каждого союзного руководителя, каждого выдающегося маршала, генерала, адмирала и авиационного командующего. Я хочу провозгласить тост в честь самого важного русского человека во Второй мировой войне. Джентльмены, я предлагаю выпить вместе со мной за рядового солдата великой Красной Армии!» Тост американского лейтенанта был встречен с выкриками одобрения…
«Мы лишь одни, простофили и дуры, Питер не выдали немцам»
Известный бард Александр Городницкий, который детство провел в осажденном Ленинграде, размышляя позднее о причинах невероятной стойкости ленинградцев, написал в этой связи такое стихотворение:
Вспомним блокадные скорбные были,
Небо в разрывах, рябое,
Чехов, что Прагу свою сохранили,
Сдав ее немцам без боя.
Голос сирены, поющей тревожно,
Камни, седые от пыли.
Так бы и мы поступили, возможно,
Если бы чехами были.
Горькой истории грустные вехи,
Правы, возможно, разумные чехи –
Мы, вероятно, не правы.
Правы бельгийцы, мне искренне жаль их,
– Брюгге без выстрела брошен.
Правы влюбленные в жизнь парижане,
Дом свой отдавшие бошам.
Мы лишь одни, простофили и дуры,
Питер не выдали немцам.
Не отдавали мы архитектуры
На произвол чужеземцам.
Не оставляли позора в наследство
Детям и внукам любимым,
Твердо усвоив со школьного детства:
Мертвые сраму не имут.
И осознать, вероятно, несложно
Лет через сто или двести:
Все воссоздать из развалин возможно,
Кроме утраченной чести.
А потому 75 лет назад жители Ленинграда отстояли не только свой город, спасли его от уничтожения, они отстояли честь всей России!
Специально для «Столетия»