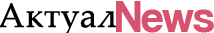Михаил Боярский: Понимаю, что мое время ушло

Оригинал, острослов, кавалер. Элегантен, галантен, речист. Без такого Боярского телевизор давно уже не может обойтись.
Но есть же и другая сторона этой сверкающей медали. Циник, мизантроп. Гневлив, вечно раздражен. Такой он вне экрана… Или, может быть, таким хочет казаться?
— Михаил Сергеевич, вас принято считать мизантропом, которого буквально все раздражает…
— Да, это так. Но поскольку я это знаю, то подавляю в себе эту агрессию.
— С возрастом одни становятся мягче, у других, наоборот, портится характер. К какому типу себя отнесете?
— Ко второму. Я консерватор, все новое принимаю в штыки… Но не ломаю компьютеры ни у кого, не отнимаю айпеды, не разбиваю телевизоры. Так что это только мои проблемы… Природа с возрастом не меняется — такая же прекрасная, как и была. Дети — такие же прекрасные, женщины. Мне семья — все интереснее и интереснее. То есть приобретение — это семья, все остальное теряется. Потерять можно много в жизни, а семья — прибавляется, поэтому за нее нужно держаться. Это снова маленькие дети, снова первые шаги, первые слова — все это очень здорово.
Рано или поздно мне придется уйти. У актеров много общего со спортсменами: если спортсмен не может делать то, что он делал раньше, то он уходит из спорта. И правильно делает. Это же касается и артистов.
Причем я не сказал, что ухожу сейчас, но надо быть готовым к этому. И я готов. Без всякого сожаления. Надо соизмерять свои возможности с теми силами, которые есть. Если у товара истек срок годности, то продавать гнилье несправедливо.
Когда видишь немощных актеров или актрис, поневоле задумаешься: а стоит ли? Ради чего? Если для здоровья, если сцена дает ему импульс для жизни, то, может быть, стоит. Но, наверное, есть другие возможности.
Балетные не танцуют до восьмидесяти, и это правильно. То же происходит и с драматическими актерами, которые еще что-то могут, но запомнить сто пятьдесят страниц текста очень сложно. И физически не взберешься по лестнице, как Тибальд, и фехтовать так же проворно, как раньше, не получится. А если упадешь, то неизвестно, поднимешься ли…
— Вот и казалось, что внуки вас изменят, растопят сердце, и вы станете мягким, белым и пушистым.
— Ну, в общем-то, дома я такой и есть. А что касается всего остального… В светском обществе я не появляюсь. Перед спектаклем сижу один в гримуборной… Зрителей, правда, не очень люблю, потому что терпеть не могу, когда они начинают хлопать до начала спектакля. Вышел на сцену — похлопайте, но зачем раз 20-30 до начала спектакля хлопать? Эй, начинай вовремя, что ли? Так это не мы задерживаем, а они. Они раздеваются долго, они садятся долго, они телефоны не выключают никогда…
— Извините, а кто для кого: вы — для них или они — для вас?
— Это не имеет никакого значения. Каждый выполняет свою функцию. Они пришли отдыхать, развлекаться, я — работать, трудиться. Так что каждый должен делать свое дело.
— Все-таки мизантроп в вас не умрет никогда.
— Вместе со мной…
— Мешает он вам? Часто вырывается из-под контроля?
— Мешает, конечно. Но если и вырывается что-то, то не из-за моей мизантропии, а в ответ на конкретное хамство. Начинается все с выхода на улицу. Сейчас у всех телефон есть — и они хотят сфоткаться, тут же! Только выхожу мусор вынести — «А можно сфоткаться?» Вот так бы сразу мусорным ведром по башке и дал.
— То есть сослагательное наклонение тут все-таки присутствует?
— Ну, конечно… Хотя они и в бане могут подойти, и в туалете. Сфоткаться им надо — и хоть умри! Детей подсылают — для ребенка, мол, сделай. В половине второго ночи ребенок вдруг безумно захотел сфоткаться!..
— Разве еще не привыкли к этому?
— Нет, я говорю: «Вам не удастся меня осчастливить». И ухожу.
— Они же вас просто любят. Сорок лет смотрят д’Артаньяна! В своем воображении рисуют определенный образ, а вы их обижаете.
— Да пускай смотрят еще 135 и воображают, сколько угодно. Да, я такой. И никакого отношения к этому персонажу не имею. д’Артаньян и я — два разных человека. Хотя иногда даже жалко, что шпаги нет, все было бы гораздо проще.
— Что еще в дне сегодняшнем вызывает раздражение?
— Телевизор, например.
— Так сами же в нем участвуете.
— Смотря в чем участвовать. Я понимаю, что есть компромисс материальный. Трудно осуждать актеров, которые снимаются в рекламе, потому что это очень серьезные деньги. Но сам я не покупаем в этом плане.
— А со стороны кажется, что в «ящике» вы банально зарабатываете.
— Ни в коем случае! Это только недавно стали что-то платить. До этого все было бесплатно.
— Но у вас сейчас не так много съемок в кино, в театре зарплата небольшая…
— Я, во-первых, состоятельный человек. И мне лишнего не нужно. Да, у меня есть жена, дети, внуки, я поддерживаю определенный материальный уровень семьи. Но зарабатываю деньги где угодно, только не на телевидении.
— А где?
— Корпоративы.
— Сейчас у артистов с этим туго.
— У кого-то — может быть, у меня — нет. Потом, есть кое-какой бизнес. Раз вложившись туда, достаточно давно, я до сих пор имею возможность получать какие-то дивиденды. Так что в этом плане я спокоен — могу себе позволить не работать там, где мне не интересно.
— Если говорить о кино, тут какой процент отказа? 70 на 30, 80 на 20?
— Почти сто. Понимаете, если это сериал, то приносят килограмм 10-12 бумаги. Я максимум две страницы могу осилить, и через неделю все это идет на помойку. Уже говорил как-то: мне предлагают все время танцевать хип-хоп, а я танцую полонез, вальс, мазурку. И не буду этого делать — не мое, это ваше все! Тем более, все это на уровне КВНа. В КВН человек здорово вышел на 15 секунд — его сразу на главную роль в кино. А там он — пф-ф, и ничего не может. И режиссер не может. Снять фильм — это средство, чтобы выразить себя, что-то кому-то сказать. А у них цель — просто снять. Ну, снял, и дальше что? А дальше — тусовка, презентация. Лучше никто ничего не видел, это долгожданная премьера. Ну и все на этом заканчивается… Поэтому стоит ли мне, человеку, который не умеет это, там участвовать?..
А вообще… Я вот недавно посмотрел фильм о Марлоне Брандо и запомнил одну его фразу. Думаю, мы с ним в этом плане схожи. Он сказал: «Если бы за копание канав платили такие же деньги, как за кино, я бы копал канавы». Бывают подобные мысли, когда предлагают такие сценарии, таких режиссеров. Потому что это даже не плевок в вечность, а какая-то бесконечная струя…
— Артист — это уже некий диагноз. Кто-то говорит о том, что профессия не мужская. Недостойная даже. У вас не возникло разочарование в ней?
— Возникло, возникло. По отношению к себе возникло. Я тоже считаю, что это, в общем, кривляние. И гордыня, и самолюбование. Действительно, не мужская профессия. Ведь если задуматься: а как появились артисты-то? Думаю, примерно так. Были мощные, сильные люди в каменном веке, которые хранили семьи, добывали огонь, убивали мамонта, кормили жен, детей. А кто не ходил на охоту — кто потрусливее был или себе на уме, — те отсиживались: чтобы никто не заметил, чтобы тигр не съел. А потом — то задницу покажут, то завоют как-нибудь, то попрыгают. И им нормальные мужики, которые занимались работой мужской и уже нажрались до отвала, за это по кусочку откидывали. А ну, вроде как повеселей будет… Вот с этого и началась актерская профессия, я так полагаю.
— И что, вы ощущаете себя шутом гороховым?
— А каким же способом я зарабатываю деньги?.. В молодости снимался в трех-четырех картинах подряд, играл премьеры, записывал песни, выступал в рок-группе, снимался на телевидении. Это было здорово, увлекательно. Но потом, когда остановился, я подумал: а чего я делал-то?
Главное в моей жизни — театр. Разбрасываться везде было большой ошибкой. Музыка, фехтование, конный спорт шли на пользу моему драматическому ремеслу, но мне надо было остановиться и заняться чем-то одним.
Записывать пластинки, давать концерты — все это входит в меню артиста, но я брался за все — от мультфильмов до кукольного театра. Мне все было интересно, да и сил, энергии больше было. Сейчас этого уже нет. Я очень много снимался в фильмах, в которых не надо было сниматься. Все эти ленты канули в Лету. Понимание, что не надо разбрасываться, приходит с опытом…
— Это сейчас такие мысли в голову приходят?
— Ну, да. Мне какой-то фан прислал все триста песен, которые я записал. Слушать невозможно! Ужас какой! 99% того, что я исполнил, это позор и стыд! Это была, знаете, даже не работа, а просто процесс. «Мишка, споешь?» — «А, давай!» То есть не было такого к себе отношения: нет, это лишнее, а вот тут я подумаю… Это сейчас я позволяю себе такую роскошь. А раньше просто жрал все подряд, как корова на лугу. Что одуванчик, что василек сожрать — а на выходе одно и то же. И дальше что? А, оказывается, мне надо было сыграть одного д’Артаньяна — и все. Больше ничего не надо! И молчать все время после этого. Вот это было бы по-настоящему.
— И что же, теперь мучительно больно за бесцельно прожитые годы?
— Нет, я с этим спокойно живу, не гнетет. Да, дурачок был, так случилось. Вот как-то так промчался по жизни…
— Лизу предостерегаете от собственных ошибок?
— Я говорю ей об этом. Но у нее, по-моему, более верное отношение к профессии. Да и с рождением ребенка, думаю, правильный баланс появился — потому что семья важнее, конечно. Все остальное — мимолетно и, в общем-то, не очень нужно. Я просто слишком часто хоронил артистов. Каких бы званий ни добивались, какими бы великими ни были — и фамилию не помнят. Ну и что пыжиться-то?
— Когда Лиза еще не была замужем, ходили разговоры о том, что вы очень сурово относитесь к ее избранникам — жалуетесь, дескать, мужиков нет нормальных…
— Боюсь сглазить, но Макс, конечно, меня потрясает…
— Но он ведь тоже актер.
— Но он еще и мужчина настоящий. Он может все делать руками. Если не будет артистом — часу не пройдет, как станет ковать железо. Макс настоящий мужик — если за что-то берется, то делает все до конца. Он не поверхностный, в отличие от меня.
— Но вы действительно были так страшны для женихов Лизы, как вас малюют?
— Не-е-т. Я даже ни с кем знаком-то не был. Как и с Максом, собственно. Один Новый год мы с ним встретили, в следующий раз увиделись на свадьбе — все. А теперь я его вообще не вижу. Если нас что-то и объединяет, то только внук.
— Михаил Сергеевич, вы по-прежнему сами для себя самый интересный собеседник?
— Да. Мне с собой очень интересно, потому что я все-таки артист, я умею говорить за других. В своих мыслях могу встречаться с Петром Первым, с Владимиром Путиным, с Джоном Ленноном. Могу беседовать с Мэрилин Монро и в диалоге за сигарой и рюмкой коньяка провести с ней пару часов. А вот она мне сказала так, а я ей ответил так…
Это, конечно, маразм определенный, но я люблю такие идиотские фантазии. Причем я никогда не позволяю своим партнерам по фантазиям льстить или врать — они очень откровенны со мной. А я пытаюсь выпутаться из этой ситуации, думаю: а как бы ответил, если бы меня спросил, допустим, Чехов. Вот он скажет: «Ну как же так, господа, вы эпистолярное наследие-то оставили или вообще писать разучились?» А я ему: «Антон Павлович, смилуйтесь, у вас лампочек не было, а у нас компьютеры» — «А что это такое?» И вот пытаюсь ему объяснить…
— А живые, реальные собеседники у вас остались?
— Все меньше и меньше. Таких, как Равикович, как Владимир Балон… С Алисой Бруновной (Фрейндлих — Ред.) иногда имею честь поговорить. С Табаковым говорил много раз, но все-таки это очень мало. Потому что я все мечтал попасть к нему на курс, посмотреть, как он обучает, но так и не удалось. Хотел бы сам поучиться у него… Мне интересно говорить с детьми, так как сразу понимаю уровень своего положения в современном мире. Серега (сын Боярского — Ред.) меня вообще не считает за собеседника, потому что я не продвинутый. Ему сложно со мной говорить — они, продвинутые, все схватывают на лету и очень быстро анализируют. И с Лизой непросто, потому что мои высказывания очень старомодны, не приносят никакой реальной пользы. Так, бурчит что-то: это не так, то не этак — ну пускай побурчит. С Максом тоже — лучше книгу почитает, чем со мной побеседует, он не теряет время напрасно…
Многие говорят, что в девяностые не было работы. У меня она была всегда — и в девяностые, и в двухтысячные, и в любые времена. Я только успевал отказываться. Другое дело, что она была не такой, как мне хотелось бы, ведь я же застал лучшее время — тот же «Старший сын» Вампилова, Дюма в кино, и театральные работы были на другом качестве драматургии.
Сейчас выбор огромный, но люди почему-то разучились выбирать. Почему-то выбирают гнилые яблоки. Думаю, что при желании можно найти и чистоплотный материал.
— Извините, Михаил Сергеевич, а вы часто думаете о том, что ваше время ушло?
— Конечно! Это нужно понимать. Осень — все, листья опали. И стоишь голый, как дурак, и чего-то машешь сухими ветками. Рождаются новые люди, а ты — уже отработанная натура, уходящая. Поэтому какая польза от меня может быть? Только нянька. Но пока еще функционирующая и не сидящая на шее у детей. Я пока еще сам передвигаюсь, могу чем-то помочь. Я могу еще кому-нибудь морду набить при необходимости. А могу и на Мальдивы отвезти и детей, и внуков.
— Могу — не значит хочу. А часто возникает желание уехать в свой загородный дом, подальше ото всех — и книжки, вино, сигары, собственные мысли?
— Одному? Нет. Дня на три максимум меня хватит. Мне все-таки нужен собеседник какой-нибудь. А с супругой мы, может быть, не разговариваем красиво, зато молчим здорово… Вот выпить не с кем, это точно. Валька Смирнитский у меня остался, пара школьных друзей. Но один в больнице, другой в больнице… Машина-то проехала свое, она изношена, менять надо колеса. А эти колеса уже не выпускают, уже не поменяешь. И вот педали скрипят, сидения порваны — все в пепле, прожженные, стекла разбиты. Мотор заведется — и на том спасибо…
— Что бы вы сами себе пожелали?
— Только здоровья, больше ничего не нужно. И чтобы в маразм не впасть — это самое главное. Все-таки впадаю в маразм, я это чувствую. Нужно написать себе плакат и повесить на стенке. Чтобы проснулся утром — и: «Имей в виду — ты в маразме…»