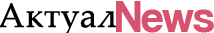Андрей Бабицкий: Как я стал русским патриотом

Моя мама Россию любила, но патриотом была советским. Все вот это русское-русское ей казалось местечковым выпячиванием, оскорбительным для других народов советской империи. А я считал, что любовь к своим никого обижать не может.
Однажды моя еврейская мама вернулась из продуктового магазина в состоянии крайнего изумления. Было это в каких-то 80-х годах, я тогда отсчитывал то ли пятнадцать, то ли шестнадцать лет от момента рождения. Продавщица уличного лотка, регулярно выставляемого рядом с магазином, в ответ на недоуменный вопрос мамы относительно совсем уж бесцеремонного обвеса обозвала ту «жидовкой». Меня эта новость привела в состояние бешенства, и я уже собирался бежать бить злобной дуре морду, но мама меня остановила, сказав, что не стоит испытывать судьбу.
Стокилограммовая бабища, которую выставили из магазина торговать на мороз, могла, по словам мамы, прихлопнуть пяток таких, как я, даже не заметив. Для меня отменяющим намерения аргументом это не было, и я не пошел разбираться только потому, что мама не видела в этом никакого смысла. Поразительным в этой ситуации было то, что мама не была обижена или оскорблена. Она лишь удивилась, как удивлялась каждый раз, когда сталкивалась с проявлениями бытового антисемитизма. Ей, до корней волос советскому человеку, было непонятно, как кто-то может хорошо или плохо относиться к столь малозначительному фактору формирования личности, как национальная принадлежность.
Она была еврейкой, выглядела как типичная еврейка, но в рамках железобетонной советской догмы, которую она принимала как человек образованный и культурный, знала, что граница между добром и злом пролегает по линии, разделяющей угнетенных и угнетателей.
Национальный элемент вообще выпадал из ее мировосприятия, как выпадал он у значительного числа советских людей. Эвакуация из Киева в начале войны, работа в 15 лет на военном заводе, красный диплом ВГИКа, неудавшаяся сценарная карьера, сложная и неразделенная любовь – тяжелая и местами горестная судьба типичного советского интеллигента…
Обхамившую ее продавщицу мама жалела. За убожество ее гнева и примитивность представлений о мире, где люди делятся на хороших и плохих в зависимости от национальности. Мне тоже были не близки кровь и почва – фундаментальные понятия радикального национализма, но я, принявший по собственному решению крещение в 17 лет, уже смотрел на вещи совершенно иначе.
Мама была агностиком, но это просто такая психологически комфортная форма атеизма. «Что-то там есть, но не так, как это преподносят нам попы», – говорила она мне, когда я пытался вести с ней беседы о христианстве.
Вера и предощущение (еще не понимание) всей глубины русского православия, «цветущей сложности» русской культуры и истории наполняла мое сердце любовью к России, я был горд ощущать свою принадлежность к народу, в судьбе которого хватало всего: и грандиозных свершений, и срывов в бездну. Широта русской натуры, которую следовало бы слегка сузить, о чем писал Достоевский, мне тоже казалась замечательным свойством, хотя сегодня я понимаю, что писатель был абсолютно прав.
Когда в начале Великой Отечественной войны Сталин назвал в своем обращении советских граждан братьями и сестрами, а по ее окончании поднял тост за великий русский народ, он точно знал, что делает.
Только человек, вместивший в себя историю своего народа, ощущающий духовную связь со всеми живущими и жившими, испытывающий священный трепет «пред созданьями искусств и вдохновенья», рожденными в лоне русской культуры, влюбленный в русскую природу, понимающий или хотя бы интуитивно чувствующий всю сложность становления российской государственности и так далее, мог принести свою отдельную маленькую и бесконечно ему дорогую жизнь в жертву победе над врагом. Проще говоря, этот человек должен был снова почувствовать себя русским.
Россия неизбежно прорастала через советские концепты, где-то их отменяя, а где-то приспосабливая под собственные нужды. Догму о пролетарском интернационализме на время войны пришлось убрать до лучших времен, поскольку германский пролетарий без малейших сомнений лупил из автомата по пролетарию русскому, не признавая в последнем брата по несчастью. В теории он ведь должен был обратить оружие против своих угнетателей, но никто даже не помышлял этого делать.
Мама Россию, конечно, любила, но патриотом была советским. Все вот это русское-русское ей казалось местечковым выпячиванием, оскорбительным для других народов советской империи. А я считал, что любовь к своим, если она их не ставит выше остальных, а держит вровень с ними, никого обижать не может.
Это так правильно и славно – жить в аэродинамической трубе под названием Россия, где воздух гудит от волн, накатывающих из прошлого, и от напряжения творческих сил всего народа.
Вера, язык, культура, когда их принимаешь как национальное достояние, обретают дополнительную широту и глубину. Мне очень жаль, что время, ее сформировавшее, лишило мою маму возможности испытать восторг единения, хотя, я думаю, что отголоски этого большого чувства не были ей вовсе чужды.
Человек, влюбленный в родину, по умолчанию имеет более сложную структуру личности, поскольку в ней есть место для миллионов жизней – тех, которые были, которые есть и только появятся. Он связан с ними прочнейшими нитями, и каждая из них вливает в него капельку собственного тепла и силы.
Патриотизм – это последнее прибежище зрелой души.